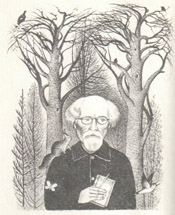Рассказы об осени М. М. Пришвина
Короткие рассказы о природе осеннего времени года Пришвина Михаила Михайловича в форме заметок передают то трогательное настроение романтики и приятной грусти, которое витает в природе осенью. Первые желтые листочки, прекрасное время золотой осени и наступление холодов, события, через которые проходит осенняя природа, с любовью описанная в строках писателем русской природы.
Начало осени
Сегодня на рассвете одна пышная береза выступила из леса на поляну, как в кринолине, и другая, робкая, худенькая, роняла лист за листком на темную елку. Вслед за этим, пока рассветало больше и больше, разные деревья мне стали показываться по-разному. Это всегда бывает в начале осени, когда после пышного и общего всем лета начинается большая перемена и деревья все по-разному начинают переживать листопад.
Я оглянулся вокруг себя. Вот кочка, расчесанная лапками тетеревей. Раньше, бывало, непременно в ямке такой кочки находишь перышко тетерева или глухаря, и если оно рябое, то знаешь, что копалась самка, если черное — петух. Теперь в ямках расчесанных кочек лежат не перышки птиц, а опавшие желтые листики. А то вот старая-престарая сыроежка, огромная , как тарелка, вся красная, и края от старости завернулись вверх, и в блюде плавает желтый листик березы.
Осинкам холодно
В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках.
Осенняя роска
Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунятся. Грачи – на убранных полях. Сороки семьями пасутся на дорогах. Роски холодные, серые. Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает.
Ветреный день
Этот свежий ветер умеет нежно разговаривать с охотником, как сами охотники часто болтают между собой от избытка радостных ожиданий. Можно говорить и можно молчать: разговор и молчанье легкие у охотника. Бывает, охотник оживленно что-то рассказывает, но вдруг мелькнуло что-нибудь в воздухе, охотник посмотрел туда и потом: «А о чем я рассказывал?» Не вспомнилось, и – ничего: можно что-нибудь другое начать.
Так и ветер охотничий осенью постоянно шепчет о чем-то и, не досказав одно, переходит к другому; вот донеслось бормотанье молодого тетерева и перестало, кричат журавли.
С полей, с лугов, с вод поднялись туманы и растаяли в небесной лазури, но в лесу туманы застряли надолго. Солнце поднимается выше, лучи сквозь лесной туман проникают в глубину чащи, и на них там, в чаще, можно смотреть прямо.
Зеленые дорожки в лесу все будто курятся, туман везде поднимается, вода пузырьками садится на листья, на хвоинки елок, на паутинные сети, на телеграфную проволоку. И, по мере того как поднимается солнце и разогревается воздух, капли на телеграфной проволоке начинают сливаться одна с другой и редеть. Наверное, то же самое делается и на деревьях: там тоже сливаются капли.
И когда, наконец, солнце стало порядочно греть на телеграфной проволоке, большие радужные капли начали падать на землю. И то же самое в лесу хвойном и лиственном — не дождь пошел, а как будто пролились радостные слезы. В особенности трепетно-радостна была осина, когда упавшая сверху одна капля приводила в движенье чуткий лист, и так все ниже, все сильнее вся осина, в полном безветрии сверкая, дрожала от падающей капели.
В это время и некоторые высоконастороженные сети пауков пообсохли, и пауки стали подтягивать свои сигнальные нити. Застучал дятел по елке, заклевал дрозд на рябине.
Листопад
Вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. Не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. Вот он остановился, прислушался. Кто боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся. Слушает заяц: все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется. Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тут бывает другое: ты не побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как раз вот тут кто-то воспользовался и тебя сзади под шумок схватил в зубы.
Рябина краснеет
Утро малоросистое. Вовсе нет паутин на вырубках. Очень тихо. Слышно желну, сойку, дрозда. Рябина очень краснеет, березки начинают желтеть. Над скошенной травой изредка перелетают белые, чуть побольше моли, бабочки.
Заводь
Среди обгорелых от лесного пожара в прошлом году деревьев сохранилась одна небольшая осинка на самом краю высокого яра, против нашей Казенной заводи. Возле этой осинки летом стог поставили, и теперь осенью от времени он стал желтым, а осинка ярко-красной, пылающей. Далеко видишь этот стог и осинку и узнаешь нашу заводь, где сомов столько же, сколько в большом городе жителей, где по утрам шелеспер, страшный хищник, выбрасывается на стаю рыбок и так хлещет хвостом по воде, что рыбки перевертываются вверх брюхом, и хищник их поедает.
Мелкой рыбицы (мальков) так много в воде, что от удара весла впереди часто выскакивает наверх стайка, будто кто-то ее вверх подбросил. На удочку рыба уже плохо берется, а сомы по ночам идут на лягушку, только лягушек в этом году по случаю сухмени очень мало, так же мало и пауков, и этими красными осенними днями в лесу вовсе нет паутины.
Несмотря на морозы, на Кубре еще встречаются цветущие лилии, а маленьких мелких цветочков, похожих на землянику, на воде целые поляны, как белые скатерти.
Лилии белые лежали на блюдцах зеленых, и грациозные ножки их в чистой воде так глубоко виднелись, что если достать их, смериться, то, пожалуй, нас и двух на них не хватило бы.
Иван-да-Марья
Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.
Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.
Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана: это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марьи.
По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листиков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами и Марьями. Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.
Но мне нравится, что Иван перенес морозы и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:
– Иван, Иван, где теперь твоя Марья?
Осенние листики
Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края, – что там только делается, на лесной поляне! В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинушки.
На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.
Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, и у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла – и заботливый хозяин убирает свой урожай.
Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.
Последние цветы
Опять морозная ночь. Утром на поле увидел группу уцелевших голубых колокольчиков, – на одном из них сидел шмель. Я сорвал колокольчик, шмель не слетел, стряхнул шмеля, он упал. Я положил его под горячий луч, он ожил, оправился и полетел. А на раковой шейке точно так же за ночь оцепенела красная стрекоза и на моих глазах оправилась под горячим лучом и полетела. И кузнечики в огромном числе стали сыпаться из-под ног, а среди них были трескунки, взлетавшие с треском вверх, голубые и ярко-красные.
Источник
Календарь природы.
Осень
ОСЕНЬ
С утра до вечера дождь, ветер, холод. Слышал не раз от женщин, потерявших любимых людей, что глаза у человека будто умирают иногда раньше сознания, случается, умирающий даже и скажет: «что-то, милые мои, не вижу вас» – это значит, глаза умерли и в следующее мгновение, может быть, откажется повиноваться язык. Вот так и озеро у моих ног, в народных поверьях озера – это глаза земли, и тут вот уж я знаю там наверное – эти глаза раньше всего умирают и чувствуют умирание света, и в то время, когда в лесу только-только начинается красивая борьба за свет, когда кроны иных деревьев вспыхивают пламенем и, кажется, сами собою светятся, вода лежит как бы мертвая и веет от нее могилой с холодными рыбами.
Дожди вовсе замучили хозяев. Стрижи давно улетели. Ласточки табунятся в полях. Было уже два мороза. Липы все пожелтели сверху и донизу. Картофель тоже почернел. Всюду постелили лен. Показался дупель. Начались вечера.
НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ
Тихо в золоте, и везде на траве, как холсты, мороз настоящий, видимый, не тот, о котором хозяева говорят – морос, значит, холодная роса. Только в восемь утра этот настоящий видимый мороз обдался росой, и холсты под березами исчезли. Лист везде потек. Вдали ели и сосны прощаются с березами, а высокие осины – красной шапкой над лесом, и мне почему-то из далекого детства вспоминается тогда совсем непонятная поговорка: «На воре шапка горит».
А ласточки все еще здесь.
Замерли от холода все пауки. Сети их сбило ветром и дождями. Но самые лучшие сети, на которые пауки не пожалели лучшего своего материала, остались невредимы в дни осеннего ненастья и продолжали ловить все, что только способно было двигаться в воздухе. Летали теперь только листья, и так попался в паутину очень нарядный, багровый, с каплями росы осиновый лист. Ветер качал его в невидимом гамаке. На мгновение выглянуло солнце, сверкнули алмазами капли росы на листе. Это мне бросилось в глаза и напомнило, что в эту осень мне, старому охотнику, непременно нужно познакомиться е жизнью глухарей в то время, как им самым большим лакомством становится осиновый лист, и как не раз приходилось слышать и читать, будто бы приблизительно за час до заката они прилетают на осины, клюют дотемна, засыпают на дереве и утром тоже немного клюют.
Я нашел их неожиданно возле маленькой вырубки в большом лесу. При переходе через ручей у меня чавкнул сапог, и оттого с осины над самой моей головой слетела глухарка. Эта высокая осина стояла на самом краю вырубки среди бора, и их тут было немало вместе с березами. Спор с соснами и елями за свет заставил подняться их очень высоко. В нескольких шагах от края вырубки была лесная дорожка, разъезженная, черная, но там, где стояла осина, листва ее ложилась на черное ярким, далеко видным бледно-желтым пятном; по этим пятнам было очень неудобно скрадывать, потому что глухари ведь должны быть теперь только на осинах. Вырубка была совсем свежая, последней зимы; поленницы дров, оставленные для вывоза следующей зимой, за лето потемнели и погрузились в молодую осиновую поросль с обычной яркой и очень крупной листвой. На старых же осинах листья почти совсем пожелтели. Я крался очень осторожно по дорожке от осины к осине. Шел мелкий дождь, и дул легкий ветер, листья осины трепетали, шелестели, капли тоже всюду тукали, и оттого невозможно было расслышать звук срываемых глухарями листов. Вдруг на вырубке из молодого осинника поднялся глухарь и сел на крайнюю осину по ту сторону вырубки, в двухстах шагах от меня. Я долго следил за ним, как он часто щиплет листья и быстро их проглатывает. Случалось, когда ветер дунет порывом и вдруг все смолкнет, до меня долетал звук отрыва или разрыва листа глухарем. Я познакомился с этим звуком в лесу. Когда глухарь ощипал сук настолько, что ему нельзя было дотянуться до хороших листьев, он попробовал спрыгнуть на ветку пониже, но она была слишком тонка и согнулась, и глухарь поехал ниже, крыльями удерживая себя от падения. Вскоре я услышал такой же сильный треск и шум на моей стороне, а потом еще и понял, что везде вокруг меня наверху в осинах, спрятанных в хвойном лесу, сидят глухари. Я понял также, что днем все они гуляли по вырубке, может быть, ловили каких-нибудь насекомых, глотали необходимые им камешки, а на ночь поднялись на осины, чтобы перед сном полакомиться своим любимым листом.
Мало-помалу, как почти всегда у нас, западный ветер перед закатом стал затихать. Солнце вдруг все со всеми своими лучами бросилось в лес. Я продолжил ладонями свои ушные раковины и среди легкого трепета осиновых листьев расслышал звук отрыва листа, более глухой и резкий, чем гулкое падение капель. Тогда я осторожно поднялся и начал скрадывать. Это было не под весеннюю песню скакать, когда глухарь ничего не слышит, поручая всего себя песне, направляемой куда-то в зенит. Особенно же трудно было перейти одну большую лужу, подостланную как будто густо осиновым листом, на самом же деле очень тинистую и топкую. Ступню нужно было выпрямлять в одну линию с ногой, как это у балерин, чтобы при вынимании грязь не чавкнула. И когда вынешь тихо ногу из грязи и капнет с нее в воду, кажется ужасно как громко. Между тем вот мышонок бежит под листвой, и она разваливается после него, как борозда, с таким шумом, что если бы мне так, глухарь давно бы улетел. Верно, звук этот ему привычный, он знает, что мышь бежит, и не обращает внимания. И если сучок треснет под ногой у лисицы, то, наверное, он будет знать наверху, что это по своим делам крадется безопасная ему лисица. В лесу ведь все определено и связано ритмически между собой. Но мало ли что не придет в голову человеку, чего-чего ему только не вздумается, и оттого все его шумы резко врываются в общую жизнь.
Однако страсть рождает неслыханное терпение, и будь бы время, вполне бы возможным было достигнуть кошачьих движений, но срок поставлен, солнце село, еще немного, и стрелять нельзя. У меня сомнения не оставалось нисколько в том, что мой глухарь сидит с той стороны стоящей передо мной осины. Но обойти ее я бы не решился и все равно не успел бы. Что же делать? Было во всей желтой кроне осины только одно узенькое окошечко на ту сторону в светлое небо, и вот ото окошечко теперь то закроется, то откроется. Я понял,–это глухарь клюет, и это его голова закрывает, видна даже бородка этой глухариной головы. Мало кто умеет, как я, стрельнуть в самое мгновение первого понимания дела. Но как раз в это мгновение произошла перегрузка на невидимый сучок под ногой, он треснул, окошко открылось. И потом еще хуже – почуяв опасность, глухарь стал хрюкать, вроде как бы ругаться на меня. А еще было: другой ближайший глухарь как раз в это время съехал с ветки и открылся мне совершенно. По дальности расстояния не мог я стрельнуть в него, но также не мог и сдвинуться с места: он бы непременно увидел. Я замер на одной ноге, другая, ступившая на сучок, осталась почти без опоры. А тут какие-то другие глухари прилетели ночевать и стали рассаживаться вокруг. Один из них стал цокать и ронять с высокой осины веточки, те самые, наискось срезанные, по которым мы безошибочно узнаем ночевку глухарей. Мало-помалу мой глухарь, однако, успокоился. По всей вероятности, он сидел с вытянутой шеей и посматривал в разные стороны. Скоро внизу у нас с мышонком, который все еще шелестел, стало совершенно темно. Исчез во мраке видимый мне глухарь. Полагаю, что все глухари уснули, спрятав под крылья свои бородатые головы. Тогда я поднял онемелую ногу, повернулся и с блаженством прислонил усталую спину к тому самому дереву, на котором спал теперь безмятежно потревоженный мною глухарь.
Нет слов передать, каким становится бор в темноте, когда знаешь, что у тебя над головой сидят, спят громадные птицы, последние реликты эпохи крупных существ. И спят-то не совсем даже спокойно, там шевельнулся, там почесался, там цокнул. Одному мне ночью не только не было страшно и жутко, напротив, как будто к годовому празднику в гости приехал к родне. Только вот что: очень сыро было и холодно, а то бы тут же вместе с глухарями блаженно уснул. Вблизи где-то была лужа, и, вероятно, это туда с высоты огромных деревьев поочередно сучья роняли капли, высокие сучья были и низкие, большие капли были и малые. Когда я проникся этими звуками и понял их, то все стало музыкой прекраснейшей взамен той хорошей обыкновенной, которой когда-то я наслаждался. И вот, когда в диком лесу все ночное расположилось по мелодии капель, вдруг послышался ни с чем не сообразный храп.
Это вышло не из страха, что-то ни с чем не сообразное ворвалось в мой великий концерт, и я поспешил уйти из дикого леса, где кто-то безобразно храпит.
Когда я проходил по деревне, то везде храпели люди, животные, все было слышно на улице, на все это я обращал внимание после того лесного храпа. Дома у нас в кладовке диким храпом заливался Сережа, хозяйский сын, в чулане же Домна Ивановна со всей семьей’. Но самое странное: я услышал среди храпа крупных животных на дворе тончайший храп еще каких-то существ и открыл ори свете электрического фонарика, что это гуси и куры храпели.
И даже во сне я не избавился от храпа. Мне, как это бывает иногда во сне, вспомнилось такое, что, казалось бы, никогда не вернется на свет. В эту ночь вернулись все мои старые птичьи сны.
И вдруг понял, что ведь это в лесу не кто другой, а глухарь храпел, и непременно же он! Я вскочил, поставил себе самовар, напился чаю, взял ружье и отправился в лес на старое место. К тому же самому дереву я прислонился спиной и замер в ожидании рассвета. Теперь, после кур, гусей, мой слух разбирал отчетливо не только храп сидящего надо мной глухаря, но даже и соседнего.
Когда известная вестница зари пикнула и стало белеть, храп прекратился. Открылось и окошечко в моей осинке, но голова не показывалась. Вставало безоблачное утро, и очень быстро светлело. Соседний глухарь шевельнулся и тем открыл себя: я видел его всего хорошо. Он, проснувшись, голову свою на длинной шее бросил, как кулак, в одну сторону, в другую, потом вдруг раскрыл весь хвост веером, как на току. Я слыхал от людей об осенних токах и подумал, не запоет ли он. Но нет, хвост собрался, опустился, и глухарь очень часто стал доставать листы. В это самое время, вероятно, мой глухарь начал рвать, потому что вдруг я увидел в окошке его голову с бородкой. Он был так отлично убит, что внизу совсем даже и не шевельнулся, только лапами мог впиться крепко в кору осины,– вот и все! А стронутые им листья еще долго слетали. Теперь, раздумывая о храпе, я полагаю, что это дыхание большой птицы, выходящее из-под крыла, треплет звучно каким-нибудь перышком. А впрочем, верно я даже не знаю, спят ли действительно глухари непременно с запрятанной под крылом головой. Я это с домашних птиц беру. Догадок и басен много, а действительная жизнь леса так еще мало понятна.
Тихо в золотистых лесах, тепло, как летом, паутина легла на поля, сухая листва громко шумит под ногами, птицы далеко взлетают вне выстрела, русак пустил столб пыли на дороге. Я вышел рано из дому и головную боль свою уходил до того, что лишился способности думать. Мог я только следить за движениями собаки, держать ружье наготове да иногда поглядывать еще на стрелку компаса. Мало-помалу я захожу так далеко, что стрелка компаса смотрит не через мой дом, и так я вступаю в совершенно мне неведомый край. Долго я продирался через густейшую заросль, и вдруг мне открылось в больших дремучих золотых лесах совершенно круглое умершее озеро. Я долго сидел и смотрел в эти закрытые глаза земли.
Ночь тихая, лунная, прихватил мороз, и на первом рассвете выпал зазимок. По голым деревьям бегали белки. Вдали как будто токовал тетерев, я уже хотел было его скрадывать, как вдруг разобрал: не тетерев это токовал, а по ветру с далекого шоссе так доносился ко мне тележный кат.
День пестрый, то ярко солнце светит, то снег летит. В десятом часу утра на болотах еще оставался тонкий слой льда, на пнях самые белые скатерти и на белом красные листики осины лежат, как кровавые блюдца. Поднялся гаршнеп в болоте и скрылся в метели.
Гуси пасутся. В полумраке стою неподвижно лицом к вечерней заре. Были слышны крики пролетающих гусей, мелькнула стайка чирков и еще каких-то больших уток. Каждый раз явление птиц так волновало меня, что я бросал свою мысль и потом с трудом опять находил ее. Эта мысль была о том, что вот как отлично это придумано – устроить нам жизнь каждому из нас так, чтобы не очень долго жилось, и нельзя никак успеть все захватить самому, все без остатка, отчего каждому из нас и представляется мир бесконечным в своем разнообразии.
Ночь была ясная, звездно-лунная. Сильный мороз. Утром все белое. Гуси пасутся на своих местах. Прибавился новый караван, и всего стало летать с озера на поле штук двести. Тетерева до полудня были все на деревьях и бормотали. Потом небо закрылось, стало мозгло и холодно.
После обеда опять явилось солнце, и до вечера было прекрасно. Мы радовались нашим уцелевшим от общего разгрома двум золотым березкам. Ветер был, однако, северный, озеро лежало черное и свирепое. Прилетел целый караван лебедей. Слышал, что лебеди очень долго держатся у нас, и когда уже так замерзнет, что останется только небольшая середка и уже обозы зимней дорогой едут прямой дорогой по льду, слышно бывает ночью во тьме в тишине, как там на середине где-то густо разговаривают, думаешь – люди, а то лебеди на незамерзшей середочке между собой.
Вечером из оврага я подобрался к гусям очень близко и мог бы из дробовика произвести у них настоящий разгром, но, пока лез по круче, приустал, сердце слишком сильно билось, а может быть, просто хотелось поозорничать. Был пень у самого верха оврага, и я сел на него так, что поднять только голову и покажется ржанище с гусями, ближайшее от меня – в десяти шагах. Ружье было приготовлено, мне казалось, что даже при внезапном взлете им без больших потерь нельзя от меня улететь, и я закурил папироску, очень осторожно выпуская дым, рассеивая его ладонью у самых губ. Между тем за этим маленьким польцем была другая балка, и оттуда совершенно так же, как и я, пользуясь сумерками, к гусям подползала лисица. Я не успел ружья поднять, как целая огромная стая гусей снялась и стала вне выстрела. Еще хорошо, что я догадался о лисице и не сразу высунул голову. Она ходила, как собака, по гусиным следам, заметно все ближе и ближе подвигаясь ко мне. Я устроился, утвердил локти, примерился глазом, тихонечко свистнул мышкой – она посмотрела сюда, свистнул другой раз, она пошла на меня.
Утренняя луна. Восток закрыт. Все-таки наконец из-под одеяла показывается полоска зари, а возле луны остаются голубые поляны.
Озеро как будто было покрыто льдинами, так странно и сердито разрушались туманы. Кричали деревенские петухи и лебеди.
Я плохой музыкант, но мне думается, у лебедей верхняя октава журавлиная – тот самый их крик, которым они по утрам на болотах как будто вызывают свет, а нижняя октава гусиная, баском-говорком.
Не знаю, наверно, от луны или от зари на голубых полянках вверху я наконец заметил грачей, и потом скоро оказалось, все небо было ими покрыто – грачами и галками: грачи маневрировали перед отлетом, галки, по своему обыкновению, их провожали. Где бы это узнать, почему галки всегда провожают грачей? Было время, когда я думал, что все на свете известно и только я, горемыка, ничего не знаю, а потом оказалось, что в живой природе ученые часто не знают даже самого простого.
Поняв это, я стал в таких случаях всегда сам что-нибудь сочинять. Так вот о галках думаю, что птичья душа, как волна: в их быту какой-нибудь толчок передается из рода в род, как волна волне передает удар камня, брошенного в воду. Вот, может быть, при первом толчке грачи и галки собирались было вместе лететь, но грачи улетели, а галки раздумали. И так до сих пор из рода в род они повторяют одно и то же: соберутся вместе лететь и вернутся назад, когда проводят грачей.
Но может быть и еще проще: так недавно еще мы узнали, что некоторые из наших ворон являются перелетными. Почему же и некоторые из галок не могут улетать вместе с грачами?
Подул утренний ветер и свалил мою елочку, поставленную среди поля, чтобы можно было из-за нее подползти к гусям. Я пошел ее ставить, но как раз в тот момент, когда я поставил ее, показались гуси. Добросовестно я ползал вокруг елочки, прячась от гусей, но они сделали несколько кругов, елочка все казалась им подозрительной, да так и улетели подальше и расселись возле Дубовиц. Я стал к ним подползать из-за большого куста ивы посредине поля. На жнивье лежал белый мороз, и тень моя на белом выползала раньше меня, долго я не замечал ее, но вдруг в ужасе заметил, что она, огромная, страшная, подбирается к самым гусям. Страшная тень человека на белом морозе дрогнула, начался переполох у гусей, и вдруг все они с криком в двести голосов, из которых каждый был не слабее человеческого «ура!» при атаке, бросились прямо на мой куст. Я успел прыгнуть внутрь куста и в прогалочек навстречу длинным шеям высунуть двойной ствол.
При первом рассвете выходим по одному в разные стороны в ельник за белками. Небо тяжелое и такое низкое, что, кажется, вот только на елках и держится. Многие зеленые верхушки совсем рыжие от множества шишек, а если урожай их велик, значит, и белок много.
В той группе елей, куда я смотрю, есть такие, что вот как будто кто их гребешком расчесал сверху донизу, а есть кудрявые, есть молодые со смолкой, а то старые с серо-зелеными бородками (лишайники). Одно старое дерево снизу почти умерло, и на каждой веточке висит длинная серо-зеленая борода, но на вершине плодов можно собрать целый амбар. Вот одна веточка на нем дрогнула. Белка, однако, заметила меня и замерла. Старое дерево, под которым мне пришлось дожидаться, с одной стороны внизу обгорело и стоит в широкой круглой яме, как в блюде.
Я раскопал прелые листья, напавшие в блюдо с соседних берез, и открылась черная, покрытая пеплом земля. По этому признаку и по тому, что нижняя часть ствола обгорела, я разгадал происхождение блюда. Прошлый год в этом лесу охотник шел зимой по следу куницы. Вероятно, она шла верхом, прыгая с дерева на дерево, оставляя на снежных ветках следы, роняя посорку. Преследование дорогого зверька увлекло, сумерки застали охотника в лесу, пришлось ночевать. Под тем деревом, где я теперь стою, жил огромный муравейник, быть может самое большое муравьиное государство в этом лесу. Охотник очистил его от снега, поджег, все государство сгорело, и остался горячий пепел. Человек улегся на теплое место, закрылся курткой, поверх завалил себя пеплом, уснул, а на рассвете дальше пошел за куницей. Весной в то блюдо, где был муравейник, налилась вода. Осенью лист соседних берез завалил его, сверху белка насыпала много шелухи от шишек, и вот теперь я пришел за пушниной.
я, что муравейник этот был огромным государством, как в нашем человеческом мире Китай. И только написалось «Китай», прямо как раз в книжку падает сверху шелушка от шишки. Догадываюсь, что наверху как раз надо мной сидит белка с еловой шишкой. Она затаилась, когда я пришел, но теперь ее мучит любопытство, живой я или совсем остановился, как дерево, и ей уже не опасен. Быть может, даже она нарочно для пробы пустила на меня шелушку, подождала немного и другую пустила и третью. Ее мучит любопытство, она больше теперь, пока не выяснит, никуда не уйдет. Я продолжаю писать о великом государстве муравьев, созданном великим муравьиным трудом: что вот пришел великан и, чтобы переночевать, истратил все государство. В это время белка бросила целую шишку и чуть не выбила у меня книжку из рук. Уголком глаза я вижу, как она осторожно спускается с сучка на сучок, ближе, ближе и вот прямо из-за спины поверх плеча моего смотрит, дурочка, в мои строки о великане, истратившем для ночевки в лесу муравьиное государство.
Вот раз тоже было, я выстрелил по белке, и сразу с трех соседних елей упало по шишке. Нетрудно было догадаться, что на каждой из этих елей сидело по белке и, когда я выстрелил, все выпустили из лапок своих по шишке и тем себя выдали. Так мы в «подмосковной тайге» ходим за белками в ноябре до одиннадцати дня и от двух до вечера: в эти часы белки шелушат шишки на елках, качают веточки, роняют посорку, в поисках лучшей нищи перебегают от дерева к дереву. С одиннадцати до двух мы не ходим, в это время белка сидит на сучке в большой густоте и умывается лапками.
Прошлый год в это время земля была уже белая, теперь осень перестоялась, и по черной земле далеко заметные ходят и ложатся белые зайцы: вот кому теперь плохо! Но чего бояться серому барсуку? Мне кажется, барсуки еще ходят. Какие теперь они жирные! Пробую постеречь у норы. В это мрачное время в еловом лесу не сразу доберешься до той тишины, где нет нашей комнатной расценки мрачных и веселых сезонов, а неизменно движется все и в этом неустанном движении находит свой смысл и отраду. Этот яр, где живут барсуки, до того крут, что, взбираясь туда, часто приходится на песке оставлять свою пятерню рядом с барсучьей. У ствола старой ели я сажусь и сквозь нижнюю еловую лапину слежу за главной норой. Белочка, обкладывая мохом на зиму свое гайно, обронила посорку, и вот тут началась та самая тишина, слушая которую охотник может, не скучая, часами сидеть у норы барсука.
Под этим тяжелым небом, подпертым частыми елками, нет ни малейших намеков на движение солнца, но когда солнце садится, барсук это знает в своей темной норе и немного спустя с большой осторожностью пробует выйти на свою ночную охоту. Не раз, высунув нос, он фыркнет и спрячется и вдруг с необычайной живостью выскочит, и охотник не успеет моргнуть. Гораздо лучше садиться перед рассветом, когда барсук возвращается,– тогда он просто идет и далеко шелестит. Но теперь по времени надо бы лежать барсуку в зимней спячке, теперь не каждый день он выходит, и жалко ночь напрасно сидеть и потом днем отсыпаться.
Не в кресле сидишь, ноги стали как неживые, но барсук вдруг высунул нос, и все стало лучше, чем в кресле. Чуть показал нос и в тот же миг спрятался. Через полчаса еще показал, подумал и скрылся вовсе в норе.
Да так вот и не вышел. А я еще не успел дойти к леснику, полетели белые мухи. Неужели барсук, только высунув нос из норы, это почуял?
Прямой мокрый снег всю ночь в лесу наседал на сучки, обрывался, падал, шелестел. Шорох выгнал белого зайца из леса, и он, наверно, смекнул, что к утру черное поле сделается белым и ему, совершенно белому, можно спокойно лежать. И он лег на поле недалеко от леса, а недалеко от него, тоже как заяц, лежал выветренный за лето и побеленный солнечными лучами череп лошади. К рассвету все поле было покрыто, и в белой безмерности исчезли и белый заяц, и белый череп.
Мы чуть-чуть запоздали, и, когда пустили гончую, следы уже начали расплываться. Когда Осман начал разбирать жировку, все-таки можно было с трудом отличать форму лапы русака от беляка: он шел по русаку. Но не успел Осман выпрямить след, как все совершенно растаяло на белой тропе, а на черной потом не оставалось ни вида, ни запаха. Мы махнули рукой на охоту и стали опушкой леса возвращаться домой.
– Посмотри в бинокль,– сказал я товарищу,– что эго белеется там на черном поле и так ярко.
– Череп лошади, голова,– ответил он.
Я взял у него бинокль и тоже увидел череп.
– Там что-то еще белеет,– сказал товарищ,– смотри полевей.
Я посмотрел туда, и там, тоже как череп, ярко-белый, лежал заяц, и в призматический бинокль можно даже было видеть на белом черные глазки. Он был в отчаянном положении: лежать – это быть всем на виду, бежать – оставлять на мягкой мокрой земле печатный след для собаки. Мы прекратили его колебание: подняли, и в тот же момент Осман, перевидев, с диким ревом пустился по зрячему.
Художник Борис Иванович в тумане подкрался к лебедям близко, стал целиться, но, подумав, что мелкой дробью по головам больше убьешь, раскрыл ружье, вынул картечь, вложил утиную дробь. И только бы стрельнуть, стало казаться, что не в лебедя, а в человека стреляешь. Опустив ружье, он долго любовался, потом тихонечко пятился, пятился и отошел так, что лебеди вовсе и не знали о страшной опасности.
Приходилось слышать, будто лебедь не добрая птица, не терпит возле себя гусей, уток, часто их убивает. Правда ли? Впрочем, если и правда, это ничему не мешает в нашем поэтическом представлении девушки, обращенной в лебедя: это власть красоты.
Звездная и на редкость теплая ночь. В предрассветный час я вышел на крыльцо, и слышно мне было – только одна капля упала с крыши на землю. При первом свете заворошились туманы, и мы очутились на берегу бескрайнего моря.
Драгоценное и самое таинственное время от первого света до восхода, когда только обозначаются узоры совершенно безлиственных деревьев: березки были расчесаны вниз, клен и осина – вверх. Я был свидетелем рождения мороза, как он подсушил и подбелил старую, рыжую траву, позатянул лужицы тончайшим стеклышком.
При восходе солнца в облаках показалось строение того берега и повисло высоко в воздухе. В солнечных лучах явилось наконец из тумана и озеро. В просвеченном тумане все казалось сильно увеличенным, длинный ряд крякв был фронтом наступающей армии, а группа лебедей была как сказочный, выходящий из воды, белокаменный город.
там собралась уже большая стая, немногие сидели на дереве, большинство бегало по кочкам, подпрыгивало, токовало совершенно так же, как и весной.
Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от ранне-весеннего, а еще, может быть, и по себе, что не бродит внутри тебя весеннее вино и радость не колет: радость теперь спокойная, как бывает, когда что-нибудь отболит, радуешься, что отболело, и грустно одумаешься: да ведь это же не боль, это сама жизнь прошла.
Во время этого большого зазимка озеро было совершенно черное в ледяном кольце, и каждый день кольцо сжимало все сильней и сильней черную воду в белых берегах. Теперь распалось кольцо, освобожденная вода сверкала, радовалась. С гор неслись потоки, шумели, как весной. Но когда солнце закрылось облаками, то оказалось, что только благодаря его лучам видима была и вода, и фронт крякв, и город лебедей. Туман все снова закрыл, исчезло даже самое озеро, и почему-то осталось лишь высоко висящее в воздухе строение другого берега.
Поздней осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там белый снег, там черная земля. Только весной из проталин пахнет землей, а осенью снегом. Так непременно бывает: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет земля, а летом принюхаемся к земле, и поздней осенью пахнет нам снегом.
Редко бывает, проглянет солнце на какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда большое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже замерзших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень маленький голубой цветок под ногой.
Наклоняюсь к голубому цветку и с удивлением узнаю в нем Ивана: это один Иван остался от прежнего двойного цветка, всем известного Ивана-да-Марьи.
По правде говоря, Иван не настоящий цветок. Он сложен из очень мелких кудрявых листков, и только цвет его фиолетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок с пестиками и тычинками только желтая Марья. Это от Марьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году опять покрыть землю Иванами и Марьями. Дело Марьи много труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана.
Но мне нравится, что Иван перенес морозы и даже заголубел. Провожая глазами голубой цветок поздней осени, я говорю потихоньку:
– Иван, Иван, где теперь твоя Марья?
Пришел ко мне Федор из Раменья, промысловый охотник. Раменье недалеко от Москвы, всего несколько часов, и все-таки сохранились тут настоящие промышленники, всю зиму только и занимающиеся охотой на лисиц, зайцев, белок и куниц. Занятые люди, и среди них этот Федор, по мастерству своему – башмачник, ему охота, конечно, невыгодна, да вот поди рассуди людей.
Федор прослышал, будто у нас лисиц много развелось, пришел ко мне проведать, привел своих собак, известных в нашем краю, один Соловей, другой называется вроде как бы по-французски – Рестон.
Соловей – великан смешанной породы: костромича, борзой, дворняжки – все спуталось, и получилась безобманная промысловая собака: лисиц с ним хочешь стреляй, а хочешь – так бери, если только не успеет занориться, непременно загоняет и не изорвет, а сядет против нее и бумкнет, охотник приходит и добивает.
От Соловья выходят щенки, с виду совершенно дворные, но в работе прекрасные, ходят и по зайцам, и по лисицам, и по куницам, забираются в барсучьи ходы и там, под землей глубоко, гонят, как на земле, еле слышно, и кто этого не знает, очень удивительно и почему-то даже смешно.
Федоровская порода известная.
Последний сын Соловья, кобель по второму полю, особенно умен, но вид. бери и на цепь сажай двор караулить.
Московские охотники только головами качают:
Какие-нибудь тертые егеря барских времен, наверно, сбили Федора на древнегреческое имя, но мужицкий язык оживил мертвое слово, стало что-то вроде ренессанса. Рестон, и дальше рациональное объяснение. Рестон – значит, резкий тон, с советским упрощением – рез-тон.
Ну, вот, под седьмое число октября месяца приходит ко мне Федор, а с ним Соловей и этот рыжий Шарик. Наши деревенские охотники все, у кого есть хоть какое-нибудь ружьишко, с вечера объявились и назвались вместе идти. А не охотники всю затею всерьез приняли и просили:
Всем этим охотникам родоначальник сосед мой слесарь Томилин, человек лет за сорок, семья – девять человек, не прокормишь же всех лужением самоваров да починкой ведер, вот он и занялся еще и ружьями, собирает из всякого лома и особенно хвалится своими пружинами.
Изредка я очень люблю эти деревенские охоты, но держусь всегда в стороне, потому что каждую охоту непременно у кого-нибудь разрывает ружье. Да немудрено, простым глазом издали видишь, как сверкают там и тут на стволах заплаты на медном припое. У одного даже и курок на веревочке: взлетает вверх после выстрелов и потом висит. Но это им нипочем, и что ружья в цель не попадают – тоже ничего, только бы ахали.
В особенности страшны мне шомнолки, заряженные с прошлого года, в начале охоты их обыкновенно всем миром разряжают в воздух и потом, когда хозяин продувает дым и он, синий, выходит не только в капсюль, а фонтаном во все стороны, все хохочут и говорят:
– Отдай бабе муку отсевать.
И так сами над собой все потешаются. Очень бывает весело, и у меня всегда является представление о тех отдаленных временах, когда также деревнями охотились на мамонта. Я думаю, у нас даже лучше: там огромное животное, наверно, к чему-то обязывает, но у нас предмет охоты иногда листопадник-белячок, величиной в крысу, ни к чему не обязывает, а радости охотничьей и хлопот все равно, как и за мамонтом. И так славно бывает, когда па выходе тот охотник со взлетающим курком погрозится в лес тому невиданному мамонту и скажет:
– Вот, погляди, я тебе галифе отобью!
Конечно, если бы настоящий мамонт, непременно бы кто-нибудь сказал:
– Не хвались, как бы тебе галифе не отбил.
– Ты лучше гляди, не улетел бы курок.
И какое волнение! Мастер Томилин перед охотой встает часа в два ночи, проверяет погоду. Я это слышу, встаю и ставлю себе самовар.
Мы с Федором чай пьем. Видно напротив, что и Томилин с сыном чай пьют. Разговор у нас о зайце, что хуже нет разыскивать в листопад – очень крепко лежит,
Чай продолжается. Разговор о лисице, какая она, сволочь, хитрая. Сотни примеров.
– человек лезет, и выскочит,
В окне начинается белая муть рассвета. Охотники-все собрались под окнами и на лавочке тихо беседуют.
Подымаемся. Среди нас нет ни одного из тех досадных людей, кто вперед перед всяким делом общественным думает про себя, что ничего не выйдет, плетется хило и слегка оживает, когда против ожидания вышло удачно,
И даже эта тяжелая муть рассвета не смущает нас, напротив, едва ли кто-нибудь из нас променял бы это на весенний соловьиный дачный восход.
Только поздней осенью бывает так хорошо, когда после ночного дождя с трудом начинает редеть ночная мгла, и радостно обозначится солнце, и падают везде кайли с деревьев, будто каждое дерево умывается.
Тогда шорох в лесу бывает постоянный, и все кажется, будто кто-то сзади подкрадывается. Но будь спокоен, это не враг и не друг идет, а лесной житель сам по себе проходит на зимнюю спячку.
Змея прошла очень тихо и вяло, видно, ползучий гад убирается под землю. Ей нет никакого дела до меня, чуть движется, шурша осенней листвой.
До чего хорошо пахнет!
Кто-то сказал в стороне два слова. Я подумал, это мне кажется так, слух мой сам дополнил к шелесту умирающей природы два бодрых человеческих слова. Или, может быть, чокнула неугомонная белка? Но скоро опять повторилось, и я оглянулся на охотников.
Они все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц из частого ельника.
Где же это и кто сказал?
Или, может быть, это идут женщины за поздними рыжиками и, настороженные лесным шорохом, изредка очень осторожно одна с другой переговариваются.
– Равняй, равняй! – услыхал я над собой высоко.
Я понял, что это не люди идут в лесу, а дикие гуси высоко вверху подбодряют друг друга.
Великий показался наконец, в прогалочке между золотыми березами, гусиный караван, сосчитать бы, но не успеешь. Палочкой я отмерил вверху пятнадцать штук и, переложив ее по всему треугольнику, высчитал – всего гусей в караване больше двухсот.
На жировке в частом ельнике изредка раздавалось «бам!» Соловья. Ему там очень трудно разобраться в следах: ночной дождик проник и в густель и сильно подпортил жировку.
Этот густейший молоденький ельник наши охотники назвали чемоданом, и все уверены, что заяц теперь в чемодане.
– Листа боится, капели, его теперь не спихнешь.
– Как гвоздем пришило!
– Не так в листе дело и в капели, главное, лежит крепко, потому что начинает белеть, я сам видел: галифе белые, а сам серый.
– Ну, ежели галифе побелели, тогда не спихнешь, его в чемодане как гвоздями пришило.
Смолой, как сметаной, облило весь ствол единственной высокой ели над густелью, и весь этот еловый чемодан был засыпан опавшими березовыми листочками, и все новые и новые падали с тихим шепотом.
Зевнув, один охотник сказал, глядя на засыпанный ельник:
Зевнул и сам мастер Томилин.
С тем ли шли: зевать на охоте!
Мастер Томилин сказал:
– Не помочь ли нам Соловью?
Смерили глазами чемодан, как бы взвешивая свои силы, пролезешь через него или застрянешь.
И вдруг все вскочили, решив помогать Соловью.
И ринулись с криком на чемодан, сверкая на проглянувшем солнышке заплатами чиненых стволов.
Всем командир мастер Томилин врезался в самую середку, и чем его сильней там кололо, тем сильней он орал.
Все орали, шипели, взвизгивали, взлаивали: нигде таких голосов не услышишь больше у человека, и, верно, это осталось от тех времен, когда охотились на мамонта.
И отчаянный крик:
Первая, самая трудная часть охоты кончилась, вер равно, как если бы фитиль подложили под бочку с порохом, целый час он горел и вдруг наконец порох взорвался.
Уверенный и частый раздался гон Соловья, и после него, подвалив, Шарик ударил, Рестон, действительно очень резко: рез-тон.
Вмиг вся молодежь, как гончие, не разбирая ничего, врассыпную бросается куда-то перехватывать, и с нею мастер Томилин, как молодой – откуда что взялось,– летит, как лось, ломая кусты.
Таким никогда не подстоять зайца, но, может быть, им это и не надо, их счастье – быстро бежать по лесу и гнать, как гончая.
Мы с Федором, старые воробьи, переглянулись, улыбнулись, прислушались к гону и, поняв, куда завертывает заяц, стали: он тут, на лесной полянке, перед самым входом в чемодан, я немного подальше, на развилочке трех зеленых дорог между старым высоким лесом и частым мелятником.
И едва только затих большой, как от лося, треск кустов, ломаемых на бегу сорокалетним охотником, далеко впереди на зеленой дорожке, между большим лесом и частым мелятником, мелькнуло сначала белое галифе, а потом и весь серый обозначился: ковыль-ковыль, прямо на меня.
Я смотрел на него с поднятым ружьем через мушку: мамонт был самый маленький белячок из позднышков-листопадников, на одном конце его туловища, совсем еще короткого, были огромные уши, на другом – длинные ноги, такие, что весь он на ходу своим передом то высоко поднимался, то глубоко падал.
На мне была большая ответственность – не допустить листопадника до чемодана и не завязить там опять надолго собак: я должен был убить непременно этого мамонта. И я взял на мушку.
В сидячего я не стреляю, но все равно ему конец неминуемый, побежит на меня – мушка сама станет вниз на передние лапки, прыгнет в сторону – мушка мгновенно перекинется к носику.
Ничто не может спасти бедного мамонта.
Ближе его из некоей мелятника показывается рыжая голова и как бы седая от сильной росы.
И все это было в одно мгновение, седая от росы голова не успела ни продвинуться, ни спрятаться. Я выстрелил, в некоей заворошилось рыжее, вдали мелькнуло белое галифе.
И тут налетели собаки.
Налетел Федор. С ружьем наперевес, как в атаке, выскочил из леса на дорожку мастер Томилин и потом все, сверкая заплатами ружей. Сдержанные сворками собаки рвались на лисицу, орали не своим голосом. Орали все охотники, стараясь крикнуть один громче другого, что и он видел промелькнувшую в густели лисицу. Когда собаки успокоились и молодежь умолкла, осталась радость у всех одинаковая, как будто все были один человек.
Мастер Томилин по-своему тоже:
Люблю гончих, но терпеть не могу накликать в лесу, порскать, лазать по кустам и самому быть, как собака. У меня было так: пущу, а сам чай кипятить, не спешу даже, когда и подымет: пью чай, слушаю и, как пойму гон, перехватываю, становлюсь на место – раз! и готово.
– в этой лощине над его могилой лесная шишига стоит.
Не я выходил Анчара. Привел раз мне один мужичок гончую, был это рослый, статный кобель и на глазах очки.
– Краденый,– говорит,– только давно было, зять щенком из питомника украл, теперь за это ничего не будет. Чистая порода.
– Породу,– говорю,– сам понимаю, а как гоняет?
И только вышли из деревни, к завору, пустили, поминай как звали, только но седой узерке след остался зеленый.
В лесу этот мужичок говорит мне:
– Я что-то озяб, давай грудок разведем.
«Так не бывает,– думаю.– не смеется ли он надо мной?» Нет, не смеется, собирает дрова, поджигает, садится.
– А как же,– спрашиваю,– собака?
– Ты,– говорит,– молод, я стар, ты не видал такого, я тебя научу: о собаке не беспокойся, она свое дело знает, ей дано искать, а мы будем чай пить.
Я так и рванулся.
Мужичок засмеялся и спокойно наливает себе вторую чашку.
– Послушаем,– говорит,– что он поднял.
Густо лает, редко и хлестко гонит.
Мы по чашке выпили, а тот уж версты четыре пролетел. И вдруг скололся. Мужичок в ту сторону рукой показал, спрашивает:
– Там у вас коров пасут?
И верно, в этой стороне пасут карачуновские.
– Это она его в коровий след завела, теперь он добирать будет. Выпьем еще по одной.
Но недолго пришлось отдыхать лисице, опять схватил свежий след и закружил на малых кругах,– видно, была местная. И как на малых кругах пошел, мужичок чай пить бросил, грудок залил, раскидал ногами и говорит:
– Ну, теперь надо поспешать.
– тяп! за шею, она – вик! и готово: лисица,– и он рядом ложится лапу зализывать.
Его звали глупо: «Гончар», я же на радости крикнул:
И так пошло после: Анчар и Анчар.
Сердце охотничье, вы знаете, как раскрывается? Знаете, утро, когда мороз на траве и перед восходом солнца туман, потом солнце восходит и мало-помалу туман отдаляется, и то, что было туман, стало синим между зелеными елями и золотыми березками, да так вот и пошло все дальше и дальше синеть, золотиться, сверкать. Так суровый октябрьский день открывается, и точно так открывается сердце охотничье: хлебнул мороза и солнца, чхнул себе на здоровье, и каждый встречный человек стал тебе другом.
– Друг мой,– говорю мужичку,– по какой беде ты собаку такую славную за деньги отдаешь в чужие руки?
– Я в хорошие руки отдаю собаку,– сказал мужичок,– а беда моя крестьянская: корова зеленями морозцу хватила, раздулась и околела: корову надо купить, без коровы нельзя крестьянину.
– Знаю, что нельзя, жаль мне очень тебя. А что же ты просишь за собаку?
– Корову же и прошу, у тебя две, отдай мне свою пеструю.
Отдал я за Анчара корову.
и они ко мне по тропкам сами бегут. Так прошло золотое время, в одно крепкое морозное утро солнце взошло, пригрело, и в полдень весь лист на деревьях осыпался. Рябчик на манок перестал отзываться. Пошли дожди, запрела листва, наступил самый печальный месяц – ноябрь.
Вот нет этого у меня, чтобы шайками в лес на охоту ходить, я люблю идти в лесу тихо, с остановками, с замиранием, и тогда всякая зверушка меня за своего принимает, всякую такую живность очень люблю я разглядывать, всему удивляюсь и бью только, что мне положено. И это мне хуже всего, когда шайками в лесу идут, гамят и бьют все, что попадается. Но бывает, какой-нибудь согласный приятель, понимающий охотник явится – люблю проводить его, другое это удовольствие, а тоже хорошее: хорошему человеку до смерти рад. Так пишет мне в начале ноября из Москвы один охотник, просится со мной погонять. Вы все знаете этого охотника, не буду его называть. Конечно, я очень ему обрадовался, отписал ему, и в ночь под седьмое он ко мне является.
И вот нужно же так: перед этим лег было славный зазимок и как раз под седьмое растаял: грязно, моросит мелкий холодный дождик. Всю ночь я не спал, беспокоился, как бы дождик не помешал и не смыл бы ночные следы. Но счастливо вызвездило после полуночи, и к утру зайцы славно набегали.
До рассвета, при утренней звезде, мы чаю напились, наговорились и, когда заголубело в окне, вышли с Анчаром на русаков.
Озимый клин в эту осечь начинался у самой деревенской заворы, была озимь в ту осень густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам ешь. И русак на этой озими так наедался, вы не поверите, сало внутри висело, как виноград, и я почти по фунту с русака надирал. Весело взял Анчар след, покружил, разобрался в жировке и пошел прямым ходом на лежку. В лесу в это время капель, шорох. Этого русак очень боится, выбирается и ложится у нас на вырубке против Алексеевой сечи. И как я понял Анчара, что он с зеленей пошел на вырубку,– скорей на пустошь к лощине: с вырубки русаки непременно этой лощиной бегут. На первое место я поставил приятеля, у края оврага, сам же стал по другой стороне, и ему не видно меня, а мне он весь, как на ладони.
– нет гона, и Анчар как провалился.
Ах, виноват, не хотел я называть вам этого охотника, вы все его знаете, ну, да ведь Сергеев у нас много.
– Сережа,– кричу я,– потруби Анчара.
Свой охотничий рог я ему отдал, он большой мастер трубить и любит. И только взялся Сережа за рог, гляжу – Анчар к нам бежит по лощине. Сразу я понял по его походке, он тем же самым следом бежит, и еще понял, это того русака лисица или сова перегнали с лежки, он прошел уже лощину, и Анчар его добирает. Вот когда он поравнялся с моим приятелем, гляжу, тот поднимает ружье и прицеливается.
только шапка видна, и вот только бы курок спустить, вдруг вся голова показалась. Мелькни мне это в памяти, я понял бы, что сверху видна только шерсточка, крикнул бы и остановил. Но я подумал – приятель мой балуется, это постоянно бывает у городских охотников, как у застоялых коней.
Думал, шутит, и вдруг – бац!
Было тихо, дым весь пал в лощину и все застелил.
Обмер я и сразу вспомнил, как с того места сам в человеческую голову чуть-чуть не выстрелил.
Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновенья проходят, как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, вяжу, спит мой Анчар на траве вечным сном, на зеленой траве, как на постели.
– на кустики, с кустов – на траву, с травы –- на землю: печальный шепоток стоит в лесу (I стихает только у самой земли: тихо принимает в себя земля все слезы.
А я на все сухими глазами смотрю.
«Ну, что же,– думаю,– бывает и хуже, и человека по случаю убивают».
Перегорелый я человек, скоро с собой справился, п уж стало у меня складываться, как бы лучше мне сделать приятелю, поласковей с ним обойтись, знаю ведь, не лучше ему, чем мне, и на то мы охотники, чтобы горе умывать радостью. В Цыганове самогонка живет в каждой избе, так я и решил: идти в Цыганово и все замыть. Сам думаю так, а сам смотрю па приятеля и удивляюсь: сошел вниз, поглядел на убитого Анчара, опять стал на место и стоит себе, будто все еще гона ждет.
Источник